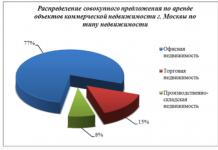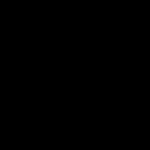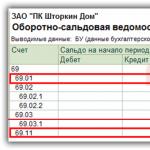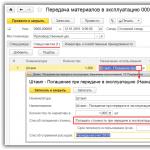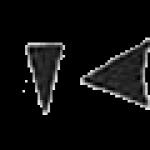Ветер уже успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены.
Четыре слепых еврея в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки. Усевшись на скамейке верхней палубы, они порывисто ударили в смычки.
Раздирающие фальшивые звуки марша «На сопках Маньчжурии» тотчас смешались с тяжелыми вздохами старой машины.
С развевающимися фалдами фрака пробежал вверх по тому же трапу один из двух пароходных официантов в сравнительно белых нитяных перчатках. С ловкостью фокусника он размахивал крошечным подносиком с дымящейся бутылкой «лимонада-газёс» .
Так началось море.
Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет и завести приятное знакомство почти не с кем.
Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские познания.
Но эта надежда не оправдалась.
Прежде всего, девочки ехали в первом классе и сразу же дали понять, заговорив с гувернанткой по-французски, что мальчик из второго класса не их поля ягода.
Затем одну из них сейчас же, как вышли в море, укачало, и она – Петя видел это в незапертую дверь – лежала на бархатном диване в недоступно роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно.
И наконец, оставшаяся на палубе девочка, несмотря на свою несомненную красоту и элегантность (на ней было короткое пальтишко с золотыми пуговицами с якорями и матросская шапочка с красным французским помпоном), оказалась неслыханной капризой и плаксой. Она бесконечно препиралась со своим папой, высоким, крайне флегматичным господином в бакенбардах и крылатке. Он был как две капли воды похож на лорда Гленарвана из книги «Дети капитана Гранта» .
Между отцом и дочерью все время происходил следующий диалог:
– Папа, мне хочется пить.
– Хочется, перехочется, перетерпится, – флегматично отвечал лорд Гленарван, не отрываясь от морского бинокля.
Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла:
– Мне хочется пить!
– Хочется, перехочется, перетерпится, – еще более невозмутимо говорил отец.
Девочка с упрямой яростью твердила:
– Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!
Слюни кипели на ее злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу:
– Па-а-апа-а-а, мне-е-е хочетца-а-а пи-и-ить!..
На что лорд Гленарван еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голоса:
– Хочется, перехочется, перетерпится.
Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать.
Тогда Петя нашел очень интересное занятие: он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир – туда и Петя.
Может быть, другие пассажиры ничего не заметили. Но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его.
Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса.
Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошел к странному пассажиру со своей проволочной кассой.
– Ваш билет, – сказал старший помощник.
Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал:
– Пожалуйста.
После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду: в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм.
Кто же он был?
Помещик? Нет. Помещики так не одевались и не так себя вели.
У бессарабского помещика обязательно был парусиновый пылевик и белый дорожный картуз с козырьком, захватанным пальцами. Затем кукурузные степные усы и небольшая плетеная корзиночка с висячим замком. В ней обязательно находились ящичек копченой скумбрии, помидоры, брынза и две-три кварты белого молодого вина в зеленом штофике.
Помещики ехали ради экономии во втором классе, держались все вместе, из каюты не выходили и все время закусывали или играли в карты.
Петя не видел в их компании странного пассажира.
На нем, правда, был летний картуз, но зато не было ни пылевика, ни корзиночки.
Нет, конечно, это был не помещик.
Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель?
Хотя у него и была под пиджаком чесучовая рубашка с отложным воротником и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх черные, как вакса, усы и выскобленный подбородок.
И уже совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пенсне на мясистом, вульгарном носу с ноздрями, набитыми волосом.
Нет, тут положительно что-то было неладно.
Засунув руки в карманы – что, надо сказать, было ему строжайше запрещено, – Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу.
Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения, рядом с кухней.
Из кухни разило горьким чадом кухмистерской, а из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла.
Стеклянная рама люка была приподнята. Можно было сверху заглянуть в машинное отделение, что Петя с наслаждением и проделал.
Он знал эту машину как свои пять пальцев. Но каждый раз она вызывала восхищение. Мальчик готов был смотреть на ее работу часами.
Хотя всем было известно, что машина устаревшая, никуда не годная и так далее, но, даже и такая, она поражала своей невероятной, сокрушительной силой.
Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе.
Он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что совсем-совсем недавно, лишь сегодня утром, он чуть не плакал, прощаясь с экономией.
Какая экономия? Что за экономия? Он уже забыл о ней. Она уже не существовала для него… до будущего лета.
Скорее, скорее в каюту, торопить папу, собирать вещи!
Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса… Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а Усатый шел прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчетливо скрипя «скороходами».
Он подошел к нему вплотную, наклонился и спросил не громко, но и не тихо:
– Чего – Жуков? – тихо, как бы через силу произнес матрос, заметно побледнел и встал на ступеньки.
– Сядь. Тихо. Сядь, я тебе говорю.
Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах.
Усатый нахмурился:
– С «Потёмкина»? Здравствуй, милый. Ты бы хоть сапожки, что ли, переменил. А мы вас ждали, ждали, ждали… Ну, что скажешь, Родион Жуков? Приехали?
И с этими словами Усатый крепко взял матроса за рукав.
Лицо матроса исказилось.
Рукав затрещал.
Но было поздно.
Матрос вырвался и бежал по палубе, увертываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал Усатый.
Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки.
Они, один за другим, нырнули в проход машинного отделения. Затем вынырнули с другой стороны. Пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срываясь со скользких медных ступенек.
– Стой, держи! – кричал Усатый, тяжело сопя.
В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка.
– Держи, держи-и-и!
Пассажиры со страхом и любопытством сбились на палубе. Кто-то пронзительно засвистел в полицейский свисток.
Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Он увернулся от Усатого, обежавшего сбоку, вильнул, перепрыгнул через люк обратно и вскочил на скамейку. Со скамейки – на перила борта, схватился за флагшток кормового флага, изо всей силы шарахнул Усатого рейкой по морде и прыгнул в море.
Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер чувствовался и тут.
Выпуклые стекла незаметно зажженных сигнальных фонарей на крыльях парохода – настолько темные и толстые, что днем невозможно было отгадать, какого они цвета, – теперь стали просвечивать зеленым и красным и хотя еще не освещали, но уже явственно светились.
Синий город, с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца, возник как-то сразу и заслонил полгоризонта.
Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и совершенно неподвижном озере гавани. Туда и заворачивал «Тургенев», очень близко огибая толстую башню, в сущности, не очень большого маяка с колоколом и лестницей.
В последний раз в машинном отделении задилинькал капитанский звонок.
– Малый ход!
– Самый малый!
Быстро и почти бесшумно скользил узкий пароходик мимо трехэтажных носов океанских пароходов Добровольного флота, выставленных в ряд с внутренней стороны брекватера. Чтобы полюбоваться их чудовищными якорями, Пете пришлось задрать голову.
Вот это пароходы!
В полной тишине с разгону, не уменьшая хода, несся «Тургенев» наискось через гавань – вот-вот врежется в пристань.
Две длинные морщины тянулись от его острого носа, делая воду полосатой, как скумбрия. По борту слабо журчала вода.
От надвигавшегося города веяло жаром, как из печки.
И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые…
Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.
– Потопили пароход, – сказал кто-то тихо.
«Кто же потопил?» – хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое: железный скелет сгоревшего парохода, прислоненный к обуглившемуся причалу.
Тут навалилась пристань.
– Задний ход!
Замолкшие было колеса шумно забили, закрутились в обратную сторону. Воронки побежали по воде.
Пристань стала удаляться, как-то такое переходить на ту сторону, потом опять – очень медленно – приблизилась, но уже с другого борта.
Над головами пассажиров пролетел, разматываясь на лету, свернутый канат.
Петя почувствовал легкий толчок, смягченный веревочной подушкой. С пристани подали сходни. Первым по ним сбежал усатый и тотчас пропал, смешавшись с толпой.
Вскоре, дождавшись своей очереди, и наши путешественники медленно сошли на мостовую пристани.
Мальчика удивило, что у сходней стояли городовой и несколько человек штатских. Они самым внимательным образом осматривали каждого сходившего с парохода. Осмотрели они также и папу. При этом господин Бачей машинально стал застегиваться, выставив вперед дрожащую бородку. Он крепко стиснул ручку Павлика, и лицо его приняло точно такое же неприятное выражение, как утром в дилижансе, когда он разговаривал с солдатом.
Они наняли извозчика – Павлика посадили на переднюю откидную скамеечку, а Петя, совершенно как взрослый, поместился рядом с папой на главном сиденье – и поехали.
При выезде из агентства у ворот стоял часовой в подсумках, с винтовкой. Этого раньше никогда не было.
– Папа, почему стоит часовой? – шепотом спросил мальчик.
– Ах, боже мой! – раздраженно сказал отец, дергая шеей. – Отчего да почему! А я почем знаю? Стоит и стоит. А ты сиди.
Петя понял, что расспрашивать не надо, но также не надо и сердиться на раздражительность папы.
Но когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожженную дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колеса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлебываясь:
– Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это?
– Пожгли, – сказал извозчик таинственно и закачал головой в твердой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя.
Проехали мимо знаменитой одесской лестницы.
Вверху ее треугольника, в пролете между силуэтами двух полукруглых симметричных дворцов, на светлом фоне ночного неба стояла маленькая фигурка дюка де Ришелье с античной рукой, простертой к морю.
Сверкали трехрукие фонари бульвара. С эспланады открытого ресторана слышалась музыка. Над каштанами и гравием бульвара бледно дрожала первая звезда.
Петя знал, что именно там, наверху, за Николаевским бульваром, сияло и шумело то в высшей степени заманчивое, недоступное, призрачное, о чем говорилось в семействе Бачей с оттенком презрительного уважения: «в центре».
В центре жили «богатые», то есть те особые люди, которые ездили в первом классе, каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в семь часов вечера, держали вместо кухарки повара, а вместо няньки – бонну и зачастую имели даже «собственный выезд», что уже превышало человеческое воображение.
Разумеется, Бачей жили далеко не «в центре».
Дрожки, треща по мостовой, проехали низом, Карантинной улицей, и затем, свернув направо, стали подниматься в город.
Петя за лето отвык от города.
Мальчик был оглушен хлопаньем подков, высекавших на мостовой искры, дробным стуком колес, звонками конок, скрипом обуви и твердым постукиванием тросточек по тротуару, выложенному синими плитками лавы.
На экономии, среди сжатых полей, в широко открытой степи, уже давно свежо и грустно золотела осень. Здесь, в городе, все еще стояло густое, роскошное лето.
Томная ночная жара неподвижно висела в бездыханном воздухе улиц, заросших акациями.
В открытых дверях мелочных лавочек желтели неяркие языки керосиновых ламп, освещая банки с крашеными леденцами. Прямо на тротуаре, под акациями, лежали горы арбузов – черно-зеленых глянцевых «туманов» с восковыми лысинами и длинных «монастырских», светлых, в продольную полоску.
Иногда на углу возникало сияющее видение фруктовой лавки. Там персы в нестерпимо ярком свете только что появившихся калильных ламп обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты – крупные лиловые сливы, покрытые бирюзовой пылью, и нежные коричневые, очень дорогие груши «бер Александр».
Сквозь железные решетки, увитые диким виноградом, в палисадниках виднелись клумбы, освещенные окнами особняков. Над роскошно разросшимися георгинами, бегониями, настурциями трепетали пухлые ночные бабочки-бражники.
С вокзала доносились свистки паровиков.
Проехали мимо знакомой аптеки.
За большим цельным окном с золотыми стеклянными буквами выпукло светились две хрустальные груши, полные яркой фиолетовой и зеленой жидкости. Петя был уверен – яда. Из этой аптеки носили для умирающей мамы страшные кислородные подушки. Ах, как ужасно они храпели возле маминых губ, черных от лекарств!
Павлик совсем спал. Отец взял его на руки. Головка ребенка болталась и подпрыгивала. Тяжеленькие голые ноги сползали с отцовских колен. Но пальчики крепко держали сумку с заветной копилкой.
Таким его и передали с рук на руки кухарке Дуне, ожидавшей господ на улице, когда извозчик наконец остановился у ворот с глухим треугольным фонариком, слабо светившимся вырезанной цифрой.
– С приездом! С приездом!
Все еще продолжая чувствовать под ногами валкую палубу, Петя вбежал в парадное.
Какая громадная, пустынная лестница! Ярко и гулко. Сколько ламп! На стене каждого пролета – керосиновая лампа в чугунном кронштейне. И над каждой лампой сонно качается в световом круге крышечка.
Медные, ярко начищенные таблички на дверях. Кокосовые маты для ног. Детская коляска.
Все эти крепко забытые вещи вдруг возникли перед Петиными изумленными глазами во всей своей первобытной новизне.
К ним надо опять привыкать.
Вот где-то вверху звонко, на всю лестницу, щелкнул ключ, бухнула дверь, быстро заговорили голоса. Каждое восклицание – как пистолетный выстрел.
Побежали легкие и бравурные звуки рояля, приглушенные стеной. Это музыка настойчивыми аккордами напоминала мальчику о своем существовании.
И наконец… боже мой!.. Кто это?..
Из двери выбегает забытая, но ужасно знакомая дама в синем шелковом платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами. У нее красные от слез, возбужденные, радостные глаза, натянувшиеся от смеха губы. Ее подбородок дрожит не то от смеха, не то от слез.
– Павлик!
Она вырывает у кухарки из рук Павлика.
– Бож-же мой, какой стал тяжелый!
Павлик открывает совершенно черные со сна глаза, с безгранично равнодушным изумлением говорит:
– О? Тетя!
И засыпает опять.
Ну да, конечно, конечно же, это тетя! Отлично знакомая, дорогая, родная, но только немножко забытая тетя. Как можно было не узнать?
– Петя? Мальчик! Какая громадина!
– Тетя, вы знаете, что с нами было? – сразу же начал Петя. – Тетя, вы ничего не знаете! Да тетя же! Вы слушайте, что только с нами было. Тетя, да вы же не слушаете! Тетя, вы же слушайте!
– Хорошо, хорошо, только не всё сразу. Иди в комнаты. А где же Василий Петрович?
– Здесь, здесь…
По лестнице поднимался отец:
– Ну, вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
– С приездом, с приездом! Пожалуйте. Не укачало вас?
– Ничуть. Прекрасно доехали. Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трех рублей сдачи.
– Сейчас, сейчас. Вы только не беспокойтесь… Петя, да не путайся же ты под ногами… После расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз – отнесите извозчику… Возьмите у меня на туалете…
Петя вошел в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился, откуда ни возьмись, в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещенного забытой, но знакомой лампой, не сразу был узнан.
А его-то, кажется, Петя мог узнать без труда, так как это именно и был он сам!
краткое содержание других презентаций«Изобразительно-выразительные средства языка» - Умение оценивать письменные высказывания. Аллюзия. Стилистические фигуры. Жаргонизмы. Многосоюзие. Цифры, соответствующие номеру. Земля - космическое тело. Литота. Изобразительно-выразительные средства. Лексические средства выразительности. Парцелляция. Термин. Сравнение. Фонетические средства. Антитеза. Эпифора. Многозначные слова. Сидел старый человек. Анафора. В саду горит костёр рябины красной.
«Метафора» - Зеркальная рябь водоёма. Метафоры Бориса Пастернака. Горбатая планета. Очеловечивание мира. Золотые руки. Созданные одним человеком, обычно писателем или поэтом, и не ставшие общеупотребительными. Бывает и наоборот – некоторые свойства и явления неживой материи переносят в мир человека. Костёр рябины красной; Берёзовый весёлый язык рощи; Ситец неба. Метафора. Метафоры Сергея Есенина. Золотая листва.
«Средства художественной выразительности» - Картинная живопись слова. Орлица. Служебное слово. Восточная мудрость. Тайны словесного искусства. Месяц. Действие. Эпитеты. Вспомните стихотворение. Образ зимы. Неодушевленные предметы. Закончить предложения. Образы радости и печали. Изобразительно-выразительные средства языка. Простор изображенной картины. Художественный образ. Воображение.
«Сравнение как средство выразительности» - Найдите в тексте сравнение, соответствующее данным картинкам. Объясните значения. Найдите и объясните сравнение. Сравнение. Листопад. Найдите в тексте соответствующее сравнение. Оглавление. «Листопад». Цели урока. Найдите в стихотворении сравнение по картинке. Сравнения в художественном тексте. Подумайте, какую роль играют сравнения в художественном тексте. Сравнения развивают фантазию, воображение.
«Метафора в языке» - Метафора предполагает перенос признаков одного предмета на другой. Метафоры в китайском языке. Различия в языке отражают различия в национальной ментальности. Теория метафоры. Метафорические единицы. Поклонник славы и свободы, в волненьи бурных дум своих. Метафоры в русском языке. «Огненные» метафоры. Метафора – поэтический прием. Придет ли час моей свободы. «Водная» и «огненная» метафоры. Слово ВОЛНОВАТЬСЯ этимологически связано со словом ВОЛНА.
«Метонимия» - Успехов в определении метонимий! Выпил стакан. На полках – сплошной хрусталь. Сравните: изделия из фарфора и хрусталя – выставка фарфора и хрусталя. Метонимия. Слова золото, хрусталь, фарфор могут обозначать материал: изделия из золота, хрусталя или фарфора. Слова тарелка, стакан обозначают и определённые виды посуды (тарелка супу, стакан воды) и содержимое, влитое в посуду. например: Съел две тарелки.
ни малейшего желания быть "спасенным". Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плывет, а до берега сравнительно недалеко.
Так что все в порядке.
Нет никаких оснований волноваться.
Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку.
Это политический преступник. Вы будете отвечать!
Помощник флегматично пожал плечами:
Не мое дело. Не имею приказанья. Обратитесь к капитану.
Капитан же только махнул рукой. И так опаздываем. Куда там, батюшка! Очень нужно. Вот через полчасика пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счет нет никаких инструкций.
Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой, стал пробираться сквозь толпу приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были подать сходни. Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины и наконец очутился у самого борта, с тем чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят.
Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась в волне среди флажков, качавшихся над рыбачьими сетями и переметами.
9 В ОДЕССЕ НОЧЬЮ
Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер чувствовался и тут.
Выпуклые стекла незаметно зажженных сигнальных фонарей на крыльях парохода - настолько темные и толстые, что днем невозможно было отгадать, какого они цвета, - теперь стали просвечивать зеленым и красным и хотя еще не освещали, но уже явственно светились.
Синий город, с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца, возник как-то сразу и заслонил полгоризонта.
Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и совершенно неподвижном озере гавани. Туда и заворачивал "Тургенев", очень близко огибая толстую башню, в сущности, не очень большого маяка с колоколом и лестницей.
В последний раз в машинном отделении задилинькал капитанский звонок.
Малый ход!
Самый малый!
Быстро и почти бесшумно скользил узкий пароходик мимо трехэтажных носов океанских пароходов Добровольного флота, выставленных в ряд с внутренней стороны брекватера. Чтобы полюбоваться их чудовищными якорями, Пете пришлось задрать голову.
Вот это пароходы!
В полной тишине с разгону, не уменьшая хода, несся "Тургенев" наискось через гавань - вот-вот врежется в пристань.
Две длинные морщины тянулись от его острого носа, делая воду полосатой, как скумбрия. По борту слабо журчала вода.
От надвигавшегося города веяло жаром, как из печки.
И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые...
Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.
Потопили пароход, - сказал кто-то тихо.
"Кто же потопил?" - хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое: железный
Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер чувствовался и тут.
Выпуклые стекла незаметно зажженных сигнальных фонарей на крыльях парохода – настолько темные и толстые, что днем невозможно было отгадать, какого они цвета, – теперь стали просвечивать зеленым и красным и хотя еще не освещали, но уже явственно светились.
Синий город, с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца, возник как-то сразу и заслонил полгоризонта.
Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и совершенно неподвижном озере гавани. Туда и заворачивал «Тургенев», очень близко огибая толстую башню, в сущности, не очень большого маяка с колоколом и лестницей.
В последний раз в машинном отделении задилинькал капитанский звонок.
– Малый ход!
– Самый малый!
Быстро и почти бесшумно скользил узкий пароходик мимо трехэтажных носов океанских пароходов Добровольного флота, выставленных в ряд с внутренней стороны брекватера. Чтобы полюбоваться их чудовищными якорями, Пете пришлось задрать голову.
Вот это пароходы!
В полной тишине с разгону, не уменьшая хода, несся «Тургенев» наискось через гавань – вот-вот врежется в пристань.
Две длинные морщины тянулись от его острого носа, делая воду полосатой, как скумбрия. По борту слабо журчала вода.
От надвигавшегося города веяло жаром, как из печки.
И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые…
Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.
– Потопили пароход, – сказал кто-то тихо.
«Кто же потопил?» – хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое: железный скелет сгоревшего парохода, прислоненный к обуглившемуся причалу.
Тут навалилась пристань.
– Задний ход!
Замолкшие было колеса шумно забили, закрутились в обратную сторону. Воронки побежали по воде.
Пристань стала удаляться, как-то такое переходить на ту сторону, потом опять – очень медленно – приблизилась, но уже с другого борта.
Над головами пассажиров пролетел, разматываясь на лету, свернутый канат.
Петя почувствовал легкий толчок, смягченный веревочной подушкой. С пристани подали сходни. Первым по ним сбежал усатый и тотчас пропал, смешавшись с толпой.
Вскоре, дождавшись своей очереди, и наши путешественники медленно сошли на мостовую пристани.
Мальчика удивило, что у сходней стояли городовой и несколько человек штатских. Они самым внимательным образом осматривали каждого сходившего с парохода. Осмотрели они также и папу. При этом господин Бачей машинально стал застегиваться, выставив вперед дрожащую бородку. Он крепко стиснул ручку Павлика, и лицо его приняло точно такое же неприятное выражение, как утром в дилижансе, когда он разговаривал с солдатом.
Они наняли извозчика – Павлика посадили на переднюю откидную скамеечку, а Петя, совершенно как взрослый, поместился рядом с папой на главном сиденье – и поехали.
При выезде из агентства у ворот стоял часовой в подсумках, с винтовкой. Этого раньше никогда не было.
– Папа, почему стоит часовой? – шепотом спросил мальчик.
– Ах, боже мой! – раздраженно сказал отец, дергая шеей. – Отчего да почему! А я почем знаю? Стоит и стоит. А ты сиди.
Петя понял, что расспрашивать не надо, но также не надо и сердиться на раздражительность папы.
Но когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожженную дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колеса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлебываясь:
– Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это?
– Пожгли, – сказал извозчик таинственно и закачал головой в твердой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя.
Проехали мимо знаменитой одесской лестницы.
Вверху ее треугольника, в пролете между силуэтами двух полукруглых симметричных дворцов, на светлом фоне ночного неба стояла маленькая фигурка дюка де Ришелье с античной рукой, простертой к морю.
Сверкали трехрукие фонари бульвара. С эспланады открытого ресторана слышалась музыка. Над каштанами и гравием бульвара бледно дрожала первая звезда.
Петя знал, что именно там, наверху, за Николаевским бульваром, сияло и шумело то в высшей степени заманчивое, недоступное, призрачное, о чем говорилось в семействе Бачей с оттенком презрительного уважения: «в центре».
В центре жили «богатые», то есть те особые люди, которые ездили в первом классе, каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в семь часов вечера, держали вместо кухарки повара, а вместо няньки – бонну и зачастую имели даже «собственный выезд», что уже превышало человеческое воображение.
Разумеется, Бачей жили далеко не «в центре».
Дрожки, треща по мостовой, проехали низом, Карантинной улицей, и затем, свернув направо, стали подниматься в город.
Петя за лето отвык от города.
Мальчик был оглушен хлопаньем подков, высекавших на мостовой искры, дробным стуком колес, звонками конок, скрипом обуви и твердым постукиванием тросточек по тротуару, выложенному синими плитками лавы.
На экономии, среди сжатых полей, в широко открытой степи, уже давно свежо и грустно золотела осень. Здесь, в городе, все еще стояло густое, роскошное лето.
Томная ночная жара неподвижно висела в бездыханном воздухе улиц, заросших акациями.
В открытых дверях мелочных лавочек желтели неяркие языки керосиновых ламп, освещая банки с крашеными леденцами. Прямо на тротуаре, под акациями, лежали горы арбузов – черно-зеленых глянцевых «туманов» с восковыми лысинами и длинных «монастырских», светлых, в продольную полоску.
Иногда на углу возникало сияющее видение фруктовой лавки. Там персы в нестерпимо ярком свете только что появившихся калильных ламп обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты – крупные лиловые сливы, покрытые бирюзовой пылью, и нежные коричневые, очень дорогие груши «бер Александр».
Сквозь железные решетки, увитые диким виноградом, в палисадниках виднелись клумбы, освещенные окнами особняков. Над роскошно разросшимися георгинами, бегониями, настурциями трепетали пухлые ночные бабочки-бражники.
С вокзала доносились свистки паровиков.
Проехали мимо знакомой аптеки.
За большим цельным окном с золотыми стеклянными буквами выпукло светились две хрустальные груши, полные яркой фиолетовой и зеленой жидкости. Петя был уверен – яда. Из этой аптеки носили для умирающей мамы страшные кислородные подушки. Ах, как ужасно они храпели возле маминых губ, черных от лекарств!
Павлик совсем спал. Отец взял его на руки. Головка ребенка болталась и подпрыгивала. Тяжеленькие голые ноги сползали с отцовских колен. Но пальчики крепко держали сумку с заветной копилкой.
Таким его и передали с рук на руки кухарке Дуне, ожидавшей господ на улице, когда извозчик наконец остановился у ворот с глухим треугольным фонариком, слабо светившимся вырезанной цифрой.
– С приездом! С приездом!
Все еще продолжая чувствовать под ногами валкую палубу, Петя вбежал в парадное.
Какая громадная, пустынная лестница! Ярко и гулко. Сколько ламп! На стене каждого пролета – керосиновая лампа в чугунном кронштейне. И над каждой лампой сонно качается в световом круге крышечка.
Медные, ярко начищенные таблички на дверях. Кокосовые маты для ног. Детская коляска.
Все эти крепко забытые вещи вдруг возникли перед Петиными изумленными глазами во всей своей первобытной новизне.
К ним надо опять привыкать.
Вот где-то вверху звонко, на всю лестницу, щелкнул ключ, бухнула дверь, быстро заговорили голоса. Каждое восклицание – как пистолетный выстрел.
Побежали легкие и бравурные звуки рояля, приглушенные стеной. Это музыка настойчивыми аккордами напоминала мальчику о своем существовании.
И наконец… боже мой!.. Кто это?..
Из двери выбегает забытая, но ужасно знакомая дама в синем шелковом платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами. У нее красные от слез, возбужденные, радостные глаза, натянувшиеся от смеха губы. Ее подбородок дрожит не то от смеха, не то от слез.
– Павлик!
Она вырывает у кухарки из рук Павлика.
– Бож-же мой, какой стал тяжелый!
Павлик открывает совершенно черные со сна глаза, с безгранично равнодушным изумлением говорит:
– О? Тетя!
И засыпает опять.
Ну да, конечно, конечно же, это тетя! Отлично знакомая, дорогая, родная, но только немножко забытая тетя. Как можно было не узнать?
– Петя? Мальчик! Какая громадина!
– Тетя, вы знаете, что с нами было? – сразу же начал Петя. – Тетя, вы ничего не знаете! Да тетя же! Вы слушайте, что только с нами было. Тетя, да вы же не слушаете! Тетя, вы же слушайте!
– Хорошо, хорошо, только не всё сразу. Иди в комнаты. А где же Василий Петрович?
– Здесь, здесь…
По лестнице поднимался отец:
– Ну, вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
– С приездом, с приездом! Пожалуйте. Не укачало вас?
– Ничуть. Прекрасно доехали. Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трех рублей сдачи.
– Сейчас, сейчас. Вы только не беспокойтесь… Петя, да не путайся же ты под ногами… После расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз – отнесите извозчику… Возьмите у меня на туалете…
Петя вошел в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился, откуда ни возьмись, в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещенного забытой, но знакомой лампой, не сразу был узнан.
А его-то, кажется, Петя мог узнать без труда, так как это именно и был он сам!
| |